Горячий Дон (ч.7)
Сегодня мы предлагаем читателю статью Скорика А. П., Бондарева В. А. «Коллективизация в казачьих судьбах» // Донской временник. Год 2014-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2013. Вып. 22. С. 93-97.
Здесь соавторы кратко, но достаточно глубоко рассмотрели период коллективизации на Дону, конца 20-х начала 30-х годов прошлого столетия.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В КАЗАЧЬИХ СУДЬБАХ
К 85‑летию начала сплошной коллективизации в СССР
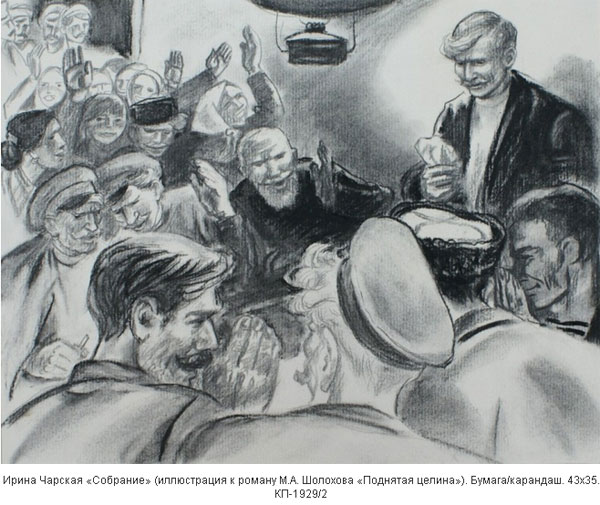
Модернизация сельского хозяйства в СССР была объективно необходима, но сталинский режим избрал такой её вариант, который оказался наиболее болезненным для советских хлеборобов. Сплошная форсированная коллективизация, развёрнутая большевиками с конца 1920-х годов, проводилась под социально агрессивными лозунгами «раскулачивания» и «обострения классовой борьбы» и сопровождалась огромными человеческими жертвами. Пострадали от коллективизации и донские, кубанские, терские казаки, в то время представлявшие собой особую группу сельского населения (впрочем, накануне «великого перелома» казачья специфика носила в большей мере социально-психологический, чем социально-экономический характер, вследствие осуществлённого советской властью в 1920‑е годы хозяйственного уравнения казачества и иногородних). Источники убедительно свидетельствуют, что в период сплошной коллективизации в конце 1920‑х – первой половине 1930‑х годов представители партийно-советских властных структур воскресили худшие сценарии времён Гражданской войны, когда огульная враждебность к казакам переросла в массовые антиказачьи акции.
Раскулачивание стало тяжёлым ударом для казаков, поскольку в имущественном плане они, в массе своей, всё же превосходили иногородних, пусть и не столь значительно, как в досоветские времена. В частности, в Верхнедонском районе Северо-Кавказского края, который, как отмечали его руководители, «по своему составу населения преимущественно казачий», накануне коллективизации насчитывалось 9565 хозяйств. Из них 1349 хозяйств относились к числу кулацких (14 %), 6339 – середняцких (66 %), и только 1877 – бедняцких (20 %) [1, л. 1]. То есть кулаков и середняков в массе казачества было намного больше, чем бедняков. В условиях, когда социальные границы кулачества были размыты и, как следствие, кулаками объявляли также более-менее зажиточных середняков, казаки становились первоочередными объектами раскулачивания. Не случайно первый секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Б. П. Шеболдаев признавал в январе 1931 года, что осуществление раскулачивания в крае породило среди казаков слухи о повторной попытке расказачивания [2, л. 23].
Однако, хотя численность объектов раскулачивания и была неправомерно расширена большевиками, всё же данный комплекс карательных мер основывался на классовой доктрине и не был направлен исключительно против казаков. Раскулачиванию подвергались также иногородние крестьяне, имущественное положение которых позволяло причислить их к «зажиточно-эксплуататорской» верхушке села. Трагизм ситуации заключался в том, что представители местной (станичной, районной) администрации вкупе с членами партячеек и беспартийными активистами использовали коллективизацию для того, чтобы осуществить карательные меры в отношении всех вообще казаков, которые рассматривались ими как закоренелые противники советской власти. В данном случае принималось во внимание не только социально-имущественное положение того или иного казака, но и исполнение им в дореволюционный период обычных административных обязанностей в станице (атаман, помощник атамана, писарь и т. п.), участие в давно минувшей Гражданской войне на стороне белых, пребывание некоторое время в эмиграции и т. п. А ведь 80% донцов воевали против красных в 1917–1920 годах, что предопределило широкие масштабы антиказачьих акций в период сплошной коллективизации.
Уже в апреле 1930 года в краевой газете Северо-Кавказского края «Молот» появилась публикация, в которой признавалось существование огульно враждебного отношения к казачеству среди местного руководства и активистов: «Левые» (здесь и далее выделено жирным шрифтом в соответствии с источником – А. С., В. Б.) головотяпы расценивают всё казачество, сплошь, как враждебную социализму силу. Они не хотят отличить казака-середняка от казака-кулака. Отсюда – «теория» неизбежных конфликтов с казачеством, в том числе и середняцким. Отсюда – прикрытая фиговым листком «левой» фразеологии антипартийная практика подавления середняка-казака вместо переделки его психологии, игнорирования – вместо привлечения и т. д.» [3].
О существовании той же проблемы в общих чертах говорилось в докладной записке, составленной 4 февраля 1931 года ответственным инструктором ЦК ВКП(б) О. Галустяном. Помимо прочего, здесь прямо указывалось, что со стороны местного партийно-советского руководства наблюдается «игнорирование [казаков], огульное подведение их под категорию контрреволюционеров, отсутствие политическо-массовой работы с бедняцко-середняцким казачеством, недостаточное вовлечение их в участие в советском и социалистическом строительстве» [4, л. 23].
Для сотрудников ОГПУ – НКВД, на всём протяжении 1930-х годов пытавшихся репрессивно-карательными мерами наладить эффективное функционирование колхозной системы, принадлежность казака к числу «бывших белогвардейцев» служила наилучшим доказательством его враждебности к советской власти или колхозам, его «вредительских» намерений или собственно «вредительства». В документах карательных органов неоднократно подчёркивается принадлежность казаков, выступавших против колхозной системы (или попросту критиковавших её в кругу знакомых и односельчан), к числу «бывших белогвардейцев» [5]. При этом зачастую сложно понять, что именно стало основным мотивом репрессий против этих казаков: то ли их антиколхозная деятельность, то ли участие в Белом движении.
Так, в 1933 году в пропагандистском издании отмечалось, что «в Пролетарском районе Северного Кавказа в колхозе им. Сталина выявлены – и теперь выброшены – Костюрин Тихон, бывший белый офицер и разлагатель колхоза, Дьяконов Иван, сын атамана, Черепахин Григорий, белогвардеец, инициатор срывов самых горячих работ, и другие враждебные нам элементы» [6, с. 8]. Как видим, в данном случае опять-таки казаки-белогвардейцы были названы в числе лиц, стремившихся якобы нанести наибольший ущерб колхозу, носившему высокое имя «вождя» советских трудящихся.
Приведём и ещё один, весьма характерный, пример. Во время весенней посевной кампании 1934 года в Северной области [7] Азово-Черноморского края обнаружилось, что тягло находится в ужаснейшем состоянии: как признавали представители власти, по меньшей мере половина тяглового скота вышла из строя вследствие бескормицы, а в ряде колхозов работоспособными оставались не более 30 % волов и коней. Сотрудники ОГПУ немедленно объявили причиной истощения и падежа скота «вредительство». В специально подготовленной ОГПУ в марте 1934 года докладной записке «О падеже тягловой силы в Северной области и деятельности вокруг этого к[онтр]-р[еволюционного] элемента» указывалось: «В деле сохранения тягла мы имеем определённое притупление классового чутья в районах [и] колхозах, определённую недооценку значения живого тягла на современном этапе. Максимум внимания переключен был только на механическую тягловую силу, волом и лошадью занимались недостаточно», чем и воспользовались вредители [8, л. 123]. Доказывая правоту выдвинутой ими версии, работники карательных органов ударными методами отыскали «вредителей»: таковыми оказались, разумеется, ветеринарный персонал, конюхи и воловники [9] коллективных хозяйств Северной области.
При этом усиленно подчёркивалась принадлежность едва ли не всех «вредителей» (большинство из которых, учитывая специфику верхнедонских районов, были казаками) к числу «бывших белогвардейцев». Таковыми, например, были объявлены ветработники Вёшенского района И. А. Дёмин, Ф. А. Ланченко, П. В. Попов, заведующий конефермой колхоза «1‑я конная армия» Каменского района Криворогов, воловники колхоза «Путь к социализму» Тацинского района Саломатин, Петренко, Васильченко, бригадир 2‑й бригады колхоза «Новая жизнь» Верхнедонского района И. Дерябкин (в отношении него подчеркивалось, что он – «активный белогвардеец, репатриант»), члены той же бригады Е. Дерябкин («активный участник к[онтр]-р[еволюционного] восстания»), Рябухин (просто «участник к[онтр]- р[еволюционного] восстания») и др. [8, л. 213–221]. Ещё более тяжким обвинением для казака, попавшего в зону внимания ОГПУ, являлась его принадлежность к реэмигрантам, то есть к числу казаков, вернувшихся на Родину из-за рубежа в 1920-е годы по объявленной советской властью амнистии. Казаки-реэмигранты (или, как нередко писали составители сводок ОГПУ, «репатрианцы» [8, л. 13] чуть ли не автоматически считались врагами, поскольку когда-то имели несчастье скрыться на территории других стран от наступавшей Красной Армии (а потом имели ещё большее несчастье вернуться на Родину, оказавшуюся на самом деле мачехой). Логика здесь была проста: если эмигрировал, то чувствовал за собой вину, значит, был настоящим врагом советской власти, значит, может вновь стать её врагом. То, что в данной ситуации на донских казаков, по ироничному выражению А. И. Козлова, «навешивали дохлых собак» [10, с. 443] (то есть припоминали прошлые грехи при фактическом отсутствии противоправных деяний в настоящем), сотрудников ОГПУ не смущало.
В ряде случаев репатрианты, которые в силу своих убеждений весьма критично оценивали политику и конкретные мероприятия большевиков, действительно давали сотрудникам ОГПУ основания для подозрительности и, значит, для репрессий (ведь в 1930‑е годы поводом для карательных мер в отношении тех или иных противников сталинского режима служили отнюдь не противоправные действия или «хотя бы» решение суда, а всего-навсего голословное обвинение, навет или попросту подозрение). Так, в январе 1934 года колхозник-репатриант из сельхозартели «Путь Ильича» Морозовского района Северо-Кавказского края неосторожно высказал своё негодование действиями коллективизаторов: «Если бы узнал, где имеется банда, вступил бы в неё и начал бы расстреливать эту свору, которая закабалила нас. Эх, хотя бы скорей организовать ее!» Естественно, что после столь резких слов он был арестован [11, л. 17], хотя понятно, что это высказывание само по себе не содержало состава преступления: вряд ли кто-либо смог бы убедительно доказать, что возмущённый репатриант всё же войдет в состав банды.
Чаще всего, однако, принадлежность казака к репатриантам сама по себе служила обвинением либо обстоятельством, отягчающим вину. Например, в марте 1934 года колхозник сельхозартели «Согласие» Каменского района Азово-Черноморского края Ковалёв в разговоре со своими станичниками поднял тему о неудовлетворительном материальном обеспечении членов коллективных хозяйств и выразил мысль о том, что в этих условиях единственным надёжным источником снабжения является личное подсобное хозяйство: «Вот видите, вам в колхозе кушать нечего, а я ем, что хочу, у меня и капуста и картофель есть. Моя жена не ходила работать в колхоз, а посеяла огород, а вы своих жен гоняете на работу, потому и сидите голодными». После того как какой-то доброхот донёс об этих словах «куда следует», Ковалёв был арестован за «антиколхозную агитацию». Очевидно, следователям ОГПУ доказательства обвинения представлялись недостаточно убедительными. Поэтому в качестве неопровержимого доказательства «классовой чуждости», «контрреволюционности» и, в конечном счёте, виновности Ковалёва было указано, что он репатриант [12, л. 42].
В то время репрессиям подвергались и многие донские, терские и кубанские казаки, которые не воевали на стороне белых в годы Гражданской войны. Так, в уже цитированной нами докладной записке О. Галустяна от 4 февраля 1931 года констатировалось, что «имеется ряд случаев, когда активного бедняка, середняка-казака исключали из колхозов». В частности, в Константиновском районе из колхоза «Пробуждение» был «вычищен» казак-краснознамёнец (кавалер ордена Красного Знамени) под тем предлогом, что его отец – зажиточный (хотя до этого исключённый казак в течение четырёх лет честно трудился на посту председателя этого же колхоза, и до развёртывания коллективизации никого не беспокоили факты его биографии). В станице Темиргоевской Курганинского района из колхоза им. Ленина был «вычищен» казак, бывший «красный партизан», на том основании, что в своей «дореволюционной» жизни он дослужился до чина прапорщика. В той же станице из колхоза была исключена казачка Анна Виленко «как жена бывшего офицера», несмотря на то что сын её, «красный командир», погиб в Гражданскую войну, а дочь являлась членом ВЛКСМ (дочь, кстати, также исключили из колхоза) [4, л. 23а]. Далее Галустян прямо указывал: «В ряде мест [колхозники-иногородние] отказывались принимать в колхоз единоличников только из-за того, что они – казаки» [4, л. 23а]. Учитывая такого рода сообщения, можно со всей уверенностью утверждать, что насильственная коллективизация являлась основным фактором, под влиянием которого сословная рознь между казаками и иногородними, тлевшая в период нэпа, вспыхнула ярким пламенем.
Да и по завершении сплошной форсированной коллективизации (о чём И. В. Сталин объявил в самом начале 1933 года) антиказачьи настроения в среде партийно-советских работников Юга России не исчезли. Весьма характерное свидетельство содержится в одном из сообщений ОГПУ за май 1934 года. В это время колхозы Усть-Грязновской МТС Обливского района Северной области Азово-Черноморского края в силу истощённости живого тягла, дефицита горючего для тракторов, низкий трудовой активности колхозников настолько затянули весеннюю посевную кампанию, что местные власти оценивали положение с севом как «угрожающее». Перечисленные причины срыва посевных планов были банальны: с ними в то время сталкивался едва ли не каждый колхоз. Однако сотрудники ОГПУ увидели в сложившейся ситуации не только экономический, но и социально-политический аспект, отмечая, что срыв посевкампании создает благоприятную обстановку для антисоветской деятельности «классового врага» (проще говоря, для недовольства населения, которое, едва пережив голод 1932–1933 годов, из-за затяжки сева опять ожидало неурожая и новых «продовольственных затруднений»). В условиях срыва весенней посевной кампании в Обливском районе широкое развёртывание «антисоветской деятельности», по мнению работников государственного политического управления, было неизбежно, «тем более, что население ряда колхозов [представляет собой] исключительно казачество, активно участвовавшее в прошлом на стороне белых» [13, л. 158–159]. Последние слова отражают всю глубину взаимного недоверия между казачьими сообществами Юга России и местным руководством, которое привычно относило казаков к числу «контрреволюционеров», зачастую не имея представления об их истинных настроениях и интересах.
Вместе с тем было бы ошибкой трактовать коллективизацию как очередной этап расказачивания. Хотя подобные отождествления характерны для публицистики и даже историографии, они не находят подтверждения в источниках.
Огульные антиказачьи акции, осуществлявшиеся местной администрацией, не находили поддержки у краевого руководства на Юге России. Широкие масштабы раскулачивания и репрессий находили удовлетворительное объяснение в сознании высшего руководства страны и краевых властей, поскольку Северный Кавказ считался «прибежищем контрреволюционеров», в том числе из среды казачества. Первый секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) А. А. Андреев, используя своеобразный (но в духе эпохи) лексикон, заявлял в начале 1929 года: «Нечего доказывать, что Северный Кавказ является наиболее махровым районом из всего Союза Сов[етских] Республик, где эта самая грязь, антисоветские нечистоты сосредоточились больше, чем где-либо в других районах, потому что сюда откатывалась контрреволюция во время гражданской войны, и здесь белогвардейцы в известной степени задержались в своём разбитом виде…» [14].
Однако представителей краевого руководства на Юге России нельзя обвинить в огульной враждебности ко всем вообще казакам. Партийно-советские чиновники краевого уровня придерживались классового подхода, согласно которому безусловной ликвидации подлежали лишь кулацкие казачьи хозяйства. Правда, при расширенной трактовке в число кулаков попадало немало казачьей бедноты и середнячества. Но о репрессиях против средних и беднейших слоёв казачества лишь на том основании, что это были казаки, краевое руководство не помышляло: ведь эти слои являлись социальной опорой большевиков, да и пытаться ликвидировать свыше 2 млн. представителей казачьих сообществ (более 30 % от общей численности южнороссийских хлеборобов) означало нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству Северо-Кавказского края. Репрессивное расказачивание отвергалось краевыми властями и как идея, и как политика, и как комплекс конкретных антиказачьих акций.
Уже 26 апреля 1930 года вышло постановление Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) о работе среди казачьего населения региона, где, в частности, отмечалось, что «небольшевистским и вреднейшим является настроение среди части местных работников предвзятого, недоверчивого отношения к казаку только потому, что часть казачества была обманута генералами и кулаками, участвуя в белых армиях». Предлагалось в казачьих округах края усилить представительство казаков в составе колхозного руководства, доведя их удельный вес не менее чем до 50 % [15].
П. Г. Чернопицкий отмечал, что реализация апрельского (1930 года) постановления Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) о работе с казачеством привела к заметному повышению удельного веса казаков в составе членов сельских и станичных советов [16]. Действительно, подтверждений тому немало. Так, состоявшаяся в мае 1930 года 3‑я районная конференция партийных работников Тарасовского района Северо-Кавказского края констатировала: «Благодаря правильности руководства ОК (окружного комитета Компартии – А. С., В. Б.) работой среди казачества имеется рост активности со стороны казачества, а также приток в ряды партии лучших [представителей] батрацко-бедняцкой части колхозников. Конференция предлагает эти успехи закрепить и повести дальнейшую работу по вовлечению казачества в социалистическое строительство и лучших преданных колхозников-казаков в ряды партии» [17, л. 4].
Новочеркасский райисполком, отчитываясь о деятельности за март 1929 – январь 1931 года, докладывал, что в данное время «среди казачества [она] сводилась в основном к решительной борьбе с недооценкой отдельными работниками важности работы с казачеством, заостряя особо необходимость развертывания и улучшения качества массовой работы». Райисполком добился того, что в районе наметился «…довольно значительный рост активности батрацко-бедняцких и середняцких масс казачества, который оказал весьма существенную помощь советской власти в проведении ею мероприятий на селе» [18, с. 10–11]. По сведениям 24 сельсоветов Новочеркасского района, после апрельского решения крайкома ВКП(б) явка казаков на выборы сельсоветов возросла до 76,7 % против 56,8 % в прошлую перевыборную кампанию. Если в 1928–1929 годах удельный вес казаков в сельсоветах района составлял, по данным 13 сельсоветов, 53,2 %, то в 1930–1931 годах доходил до 69,6 % [18, с. 11].
Важно отметить также ещё один документ, доказывающий, что коллективизация и расказачивание не тождественны. Речь идет об инструктивном письме за подписью первого секретаря крайкома ВКП(б) Северо-Кавказского края Б. П. Шеболдаева, направленного отдельным райкомам 18 января 1931 года. В письме предписывалось произвести выселение 9 тысяч кулацких хозяйств «в целях очищения приморско-плавневой и лесогорной полосы Кубани и Черноморья». Причём Шеболдаев предупреждал конкретных исполнителей, что «необходимо соблюдать строго классовый подход при отборе хозяйств, подлежащих выселению, и в особенности необходимо осторожное отношение к казаку-середняку, бывшему рядовому участнику белого движения». Далее в письме отмечалось, что «особое внимание райпарторганизации должны уделить привлечению к обсуждению списков [выселяемых] массы казаков-колхозников, бедняков и середняков» [2, л. 23, 24].
Заслуживает внимания один из абзацев письма, который гласит: «С особой тщательностью нужно добиться полной очистки этих районов от кулацко-белогвардейского элемента из так называемого иногороднего населения, что особенно важно в связи с наличием попыток со стороны классово-враждебных элементов истолковать лозунг партии о ликвидации кулачества, как «ликвидации казачества», и мероприятия по выселению кулачества, как меру расказачивания» [2, л. 20]. Как видим, выселению должны были подвергнуться не только казаки, но и иногородние, если они представляли опасность для колхозов и советской власти.
Важно, что в архивном деле содержится не только окончательный вариант письма, но и его черновик с поправками, внесёнными лично Шеболдаевым. Так вот, Шеболдаев добавил к процитированному выше абзацу слова «и мероприятия по выселению кулачества, как меру расказачивания» [2, л. 20]. Видимо, секретарь крайкома располагал информацией о трактовках населением раскулачивания как гонений на казаков и хотел добиться от секретарей райкомов и сотрудников ОГПУ, чтобы они устранили всякие кривотолки и чётко дали понять жителям края, что о расказачивании речь не идёт.
Поскольку данное письмо имеет гриф «строго секретно» и предназначалось «для своих», можно с уверенностью утверждать, что его содержание – не декларация, а отражение истинных настроений и намерений представителей власти. Это инструктивное письмо со всей очевидностью доказывает, что краевые власти Северо-Кавказского края руководствовались в своей политике по отношению к казачеству не сословными, а классовыми принципами.
Итак, развёрнутая сталинским режимом в конце 1920‑х годов сплошная форсированная коллективизация спровоцировала антиказачьи акции на Дону, Кубани и Тереке. Можно говорить о широкомасштабных, хотя и разрозненных, гонениях на казачество как таковое в первой половине 1930‑х годов, не только во время сплошной форсированной коллективизации, но и в процессе дальнейшего «колхозного строительства». Однако не следует ставить знак равенства между коллективизацией и расказачиванием. Краевое руководство на Юге России не проводило политику расказачивания, не ставило целью ликвидировать казачьи сообщества как таковые. Более того, с середины 1930‑х годов в Азово-Черноморском и Северо-Кавказском краях стартовала кампания «за советское казачество», свидетельствовавшая о том, что казаки не исчезли и признавались полноправными членами советского общества.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ЦДНИРО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 117.
2. Там же. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1074.
3. Цалюк Д. Наши классовые задачи и работа среди трудового казачества // Молот. 1930. 27 апр.
4. ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 945.
5. Там же. Ф. 166. Оп. 1. Д. 111. Л. 136; Д. 112. Л. 141, 142; Д. 114. Л. 49.
6. Ответы на вопросы рабочих и колхозников. Вып. 7. М., 1933.
7. В границах Северной области Азово-Черноморского края (с 1935 г. – Северо-Донского округа) объединялись северные районы современной Ростовской области: Белокалитвенский, Верхнедонской, Вёшенский, Глубокинский, Каменский, Кашарский, Миллеровский, Морозовский, Обливский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский.
8. ЦДНИРО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 111.
9. Воловник – работник колхозного животноводства, осуществлявший уход за волами.
10. Козлов А. И. М. А. Шолохов: времена и творчество. По архивам ФСБ. Ростов н/Д, 2005.
11. ЦДНИРО. Ф. 166. Оп. 1. Д. 114.
12. Там же. Д. 113.
13. Там же. Ф. 166. Оп. 1. Д. 112.
14. Из доклада А. А. Андреева на 8‑й краевой партконференции «О борьбе с бюрократизмом в наших рядах» // Молот. 1929. 30 янв.
15. Постановление бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) о работе среди казачьего населения Северного Кавказа // Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе (1927–1937 гг.) Краснодар, 1972. С. 295–296.
16. Чернопицкий П. Г. К вопросу о возрождении казачества // Возрождение казачества (история, современность, перспективы). Тезисы докладов, сообщений, выступлений на V Международной (Всероссийской) научной конференции. Ростов н/Д, 1995. С. 13.
17. ЦДНИРО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 30.
18. Материалы к отчету районного исполнительного комитета Советов р. к. к. и к. депутатов на районном съезде Советов VII созыва (март 1929 – январь 1931 г.). Новочеркасск, 1931.

Тип статьи:
Авторская

Комментарии